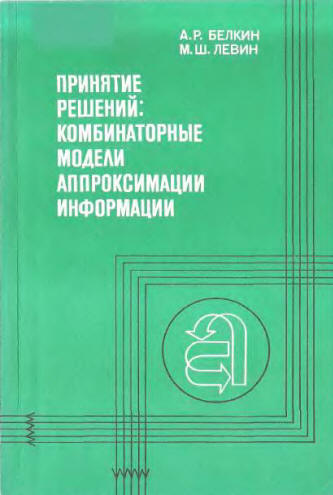Период
перестройки в стране не мог не коснуться и Академии Наук.
Применительно к нашей организации это выразилось в том, что на
базе Совета создавался новый
академический институт с красивым современным названием Институт
автоматизации проектирования.
Директором его стал Олег Михайлович, который приложил все
усилия, чтобы увести с собой
как можно больше сотрудников Совета.
Мне,
откровенно говоря, никуда уходить из Совета не хотелось, да и к
автоматизации проектирования я никакого
отношения не имел, она лежала очень далеко от области моих
собственных интересов.
Забавно, что в названии моей самой первой, ещё студенческой
публикации в "Трудах МФТИ" САПР
(системы автоматизированного проектирования) упоминались явно;
но это ж когда было-то! Теперь, спустя 12 лет, и САПР давно не
те.
В Совете мне нравилось, я имел возможность активно заниматься
тем, что мне по душе,
и подозревал я, что на новом месте всему этому придёт конец.
В общем, я
пытался сопротивляться, просил оставить меня в Совете; но успеха
не имел.
Дан приказ ему на запад о переводе в ИАП –
точка.
Правда, пилюля была вовсе не такой горькой – под мою скромную
персону создавался новый сектор
(повышение в должности со старшего научного сотрудника до
заведующего сектором в смысле зарплаты
было не так существенно, но очень весомо влияло на статус в
системе).
Название – сектор систем поддержки принятия решений – тоже было
очень удачным, заниматься такой проблематикой
мне как раз очень хотелось, она мне была близка. Сектор, правда
был крошечный (но и вообще в ИАПе народу поначалу было мало),
главную силу представляли мы с Сергеем Ивановичем Шумовым, тоже
в определённом смысле учеником Капустяна.
Сергей Иванович был несколькими годами моложе меня и стал мне
очень близким другом и – не побоюсь этого
слова! – соратником. Удивительно умный и рассудительный
человек, нас связывало очень много общих дел,
и мы сохраняем теплые отношкения и по сей день, хотя уже
тридцать лет не работаем вместе.
Для ИАПа
было выделено очень недурное место – старинное здание на углу
ул. Фучика и 2-й Брестской, близ м. Маяковская.
Когда-то это был доходный дом, парадные и квартиры сохранились,
дом был, конечно, далеко не в идеальном состоянии
и нуждался в серьёзном ремонте и перепланировке.
Забегая вперёд, скажу, что ничего подобного не произошло.
Руководство не удосужилось даже перевести его на баланс
института, так что много позже
здание перешло в другие руки, там теперь что-то вроде
бизнес-центра, а остатки ИАПа оттуда выселены.
Сектор наш
по-прежнему входил в отдел Щенникова, дали нам и отдельную
комнату, и один
на всех персональный компьютер IBM PS/2, по тем временам очень
продвинутый.
Надо
заметить, что создание нового академического института, пусть
даже и не совсем "с нуля", –
событие для Академии Наук вовсе не рядовое. Было много толков по
этому поводу, кто-то хотел перейти в новый институт,
кто-то (как я) не очень туда рвался. Датой создания института
значится 1 апреля 1987 года – над этим посмеивались.
Еще две шутки
придумал непосредственно я, и, похоже, меня вычислили, хоть я и
не раскрывал своего авторства.
Весна
1987 – 1991. ИАП, работа, семья, развод.
Обретение нами отдельной квартиры резко изменило наш быт; однако
с рождением Димки семейная жизнь явно стала давать трещины.
Здоровье Ани создавало немало проблем, Евгения очень уставала по
дому, а я, для укрепления бюджета, преподавал в нескольких вузах
(чьи названия милосердно опущу), да ещё и репетиторствовал.
Евгения ещё и подозревала меня в хождении налево (что было
совершенно безосновательно) –
в общем, я не выдержал всего этого и ушёл, оставив квартиру жене
и детям,
взял с собой буквально только рюкзак с кое-какой одежонкой и
снял однушку у чёрта на куличках, на Совхозной улице.
Лучшего места не нашёл, и долго ещё жил на съёмных квартирах и
комнатах.
Уже через месяц-другой хозяйка задрала цену вдвое, я нашел
другое место, на улице Декабристов
(тоже черт знает где, но с другой стороны).
Там всё повторилось, я нашел уже не квартиру, а комнату, потом
другую – и наконец обрёл спокойное место
со славной пожилой хозяйкой недалеко от Савёловского вокзала,
где и прожил беспечально года два с половиной.
Вот там-то детишки у меня бывали часто.
Евгения,
надо сказать, была уверена, что я ушёл к какой-то бабе; а
когда выяснилось, что ушёл я не куда, а откуда, –
это стало для нее неожиданностью, и наши отношения несколько
улучшились.
Книжки мои и одежда оставались там, с условием, что позже
заберу, когда будет куда.
Этого куда, правда, пришлось ждать лет пять.
Выписываться мне тоже было некуда, но меня Евгения с этим не
торопила.
Так или иначе в 1989 году Бауманский суд нас мирно развёл,
делить я ничего не собирался,
она против развода не возражала.
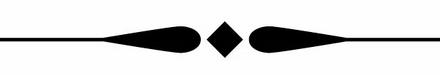
Развод вновь перевёл меня в категорию "холостых", и интерес со
стороны окружающих дам заметно усилился.
Не то чтобы я стремился наверстать годы супружеской верности, но
встречный интерес я тоже проявлял.
Любопытна одна
история
–
просто готовый сюжет для дамского романа.
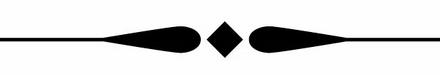
Академия Наук тем временем перестраивалась на новые рельсы.
Государственное финансирование сокращалось,
звучали слова о грантах, хоздоговорах и т.д.
Наш сектор тоже вёл несколько хоздоговоров, хотя и безденежных
(я вообще не понимаю, как такое могло быть).
Так, совместно с Институтом хирургии им. Вишневского, с его
Ожоговым центром мы разрабатывали
нечёткую систему поддержки принятия решений при оценке тяжести
сепсиса.
И довели её до ума, дав ей звучное имя НАСРЭДДИН, она и работала
подобно мудрому Ходже: сначала
опрашивала жителей благородной Бухары врачей,
потом предлагала варианты решений и действий.
Название это, кстати, красиво расшифровывалось:
Нечёткая Автоматизированная Система Размытой Экспертной
Дифференциальной Диагностики и
Идентификации Недугов.
Надо заметить, что красивое название
очень способствует успеху
выпускаемого продукта.
Тем временем в наш небольшой сектор влился очень ценный
сотрудник
– Марк
Шмуилович Левин,
крупный специалист по дискретной оптимизации и комбинаторным
моделям представления информации на графах.
Мы были знакомы уже довольно давно, познакомились и подружились
уже и семьями.
Совместная работа быстро продвинула наши результаты, что привело
сначала к серии публикаций и препринтов,
а затем и к совместной монографии, которая в алгоритмическом
плане до сих пор не устарела.
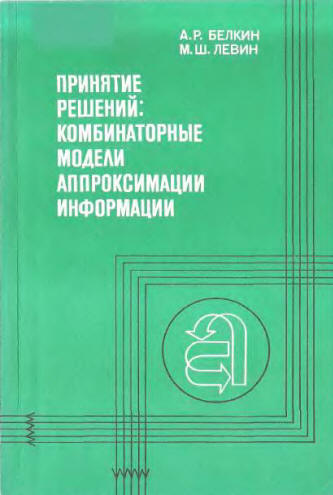
Книгу издательство "Наука" мариновало лет пять, придираясь к
весёлым, специально подобранным нами эпиграфам
к каждому параграфу и каждой главе; однако в конце концов книжка
вышла, вышла в главном издательстве страны
– это
многое значило.
Наши части были чётко разделены (мои были главы о линейных и
групповых упорядочениях и алгоритмах их построения,
Марку принадлежала главы о "задаче о рюкзаке" и смежных
проблемах. В общем, о докторской можно было говорить предметно,
да и Марк тоже явно имел сходные планы.
К этому времени мне удалось уговорить директора взять Марка в
наш институт, забрав его из той конторы,
где он работал (институт нормализации в машиностроении). О.М. не
был антисемитом, дал согласие – более того, Марку дали должность
даже не старшего, а ведущего научного сотрудника (только
что официально введённую) с очень приличной зарплатой.
Отплатил он за это
поступком, который иначе как
гнусным и подлым не назову.
Продолжение