
Белкин
Рафаил Самуилович (11.07.1922 –
03.02.2001)
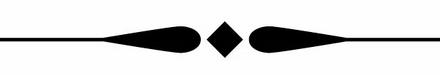
Отец мой, Рафаил Самуилович Белкин,
был личностью очень неординарной. Фронтовик-орденоносец,
крупный учёный, при жизни по заслугам названный "патриархом
отечественной криминалистики", автор сотен научных работ,
монографий, учебников, давший путевку в науку сотням
учеников (одних только защищенных кандидатов и докторов
–
более 120), открытый, доброжелательный, душевно щедрый
человек. Блестящий лектор и интереснейший собеседник, просто
умнейший человек... Всех его достоинств и не перечислить.
В детстве жил в Марьиной Роще, учился в
242-й средней школе,
где и познакомился со своей
будущей женой, моей
будущей мамой. Окончил школу в 1940 г.
и был призван в армию.
Служил на Дальнем Востоке, а когда началась
война, был отправлен на фронт.

Под Москвой, 1941 г.
Вступил в партию на фронте (сто́ит
отметить, что никаких привилегий это не
давало
–
скорее, наоборот: при попадании в плен коммунист, да ещё и
еврей, никаких шансов на спасение не имел). Кстати, никогда
не сожалел о том, что 50 лет состоял в КПСС (и вышел из
партии только в 1991 г., когда она себя полностью
дискредитировала, буквально месяц не дождавшись до "золотого
значка").
Поскольку у него было
полное среднее образование (что тогда
было редкостью), вскоре он
стал политруком (что опять же не давало
никаких привилегий, кроме разве что почетного права умереть
первым в атаке), а потом военным корреспондентом
дивизионной газеты "В бой за Родину" и других фронтовых
газет. Прошел в пехоте всю Великую
отечественную войну с 1941 по 1945 годы
–
воевал под Москвой и Ржевом, на Смоленщине и
на Курской дуге, принимал участие в освобождении
Белоруссии, Прибалтики, Варшавы, взятии
Кенигсберга и Берлина и закончил войну на Эльбе.
Рассказывать о войне не любил, особенно о
своих боевых заслугах. Но был награжден двумя
орденами Великой Отечественной войны,
двумя Красными звёздами, медалями
"За отвагу",
"За боевые заслуги",
"За оборону Москвы",
за освобождение/взятие многих городов, "За
победу над Германией" и другими.
Впоследствии был удостоен многих отечественных и иностранных
государственных наград. Пару раз
проговорился он и о том, что участвовал и в форсировании
Днепра, за что всем были обещаны
Золотые звёзды; но дали звезду Красную.
После
войны капитан Белкин был оставлен
для службы в Группе советских оккупационных войск в Германии
в г. Веймаре.
Моя будущая
мама поехала туда, и
в
марте 1946 года они поженились.

Веймар, 1946
г.
В августе 1946 г. отец прошел по
конкурсу на учебу в Военно-юридическую академию и смог
вернуться в Москву.
Академию он окончил с золотой медалью, лучшим на курсе, и
надеялся продолжить заниматься наукой, поступив в
адъюнктуру, но пресловутый 5-й пункт и происходившая тогда
кампания по борьбе с "безродными космополитами" были этому
препятствием. Единственный из всех выпускников-москвичей, он
был направлен на службу в глухую провинцию, в военную
прокуратуру 42-й воздушной армии Бакинского округа ПВО, где
был сначала следователем, а затем помощником военного
прокурора.
В таких непростых условиях он продолжал заниматься наукой,
поступив в заочную адъюнктуру Академии, и за 2,5 года
буквально "на коленке" написал и в начале 1954 г. досрочно
защитил кандидатскую диссертацию по проблемам осмотра места
происшествия.
В 1955 году он перешёл на службу в органы
внутренних дел, и дальнейшая его
жизнь связана с Высшей школой МВД (МООП), впоследствии
Академией МВД СССР, Академией управления МВД России, где уже
в 1961 году он защитил и докторскую диссертацию, посвященную
следственному эксперименту, а впоследствии много лет
руководил кафедрой криминалистики, а выйдя в отставку в
звании генерал-майора, остался её профессором.

Начальник
кафедры
Отец по
праву считался крупнейшей величиной советской
криминалистики, он фактически создал её как
систематическую науку, сформулировал новое представление
о предмете криминалистики, которое затем уточнил и
конкретизировал в своих последующих работах. Его авторитет
был просто непререкаем, а его фундаментальный 3-томный "Курс
советской криминалистики" до сих пор не имеет аналогов по
глубине и широте охвата проблем. В курсе получили дальнейшее
развитие положения общей теории криминалистики, такие ее
разделы как учение о методах, систематике и языке
криминалистики, учение о признаках и др. Были сформированы и
основные положения частных криминалистических теорий: теории
причинности, розыска, механизма преступления,
криминалистической регистрации, криминалистического
прогнозирования, временных связей и отношений и т.п. А после
этого была ещё и "Криминалистическая Энциклопедия", были и
десятки других монографий и учебников, сотни статей...
Был он и превосходным
лектором, публицистом, популяризатором своей любимой
науки, умел простым и понятным языком
говорить о весьма сложных вещах. Несколько поколений будущих
юристов узнали о криминалистике из таких его книг, как
"Ведется расследование",
"Не преступи черту",
"Репортаж из мастерской следователя".
Он написал даже "Криминалистический
букварь" для младших школьников.
Стихи
он тоже писал, и очень интересные (его переложение
"Онегина", расследующего кражу бутылки чернил, сохранилось в
авторском чтении на магнитофонной ленте). Мои первые
поэтические опыты, правда, раздраконил за выспренность;
но в дальнейшем читал уже с куда большим удовольствием и
хвалил.
Он обладал исключительной
работоспособностью, целеустремлённостью, заряженностью на
результат
– потому и поругивал меня, бывало, за то,
что слишком "разбрасываюсь". Я долго объяснял ему, что мне
интересно "жить параллельно", – в
конце концов он это понял и принял. Но к этому времени мне
пришлось самому кое-чего добиться.
Конечно, ему хотелось, чтобы дети продолжили его линию,
однако сестра стала химиком, а я
–
математиком. Он ничуть не осуждал такой выбор; однако колесо
судьбы в итоге всё же повернулось так, что от криминалистики
нам обоим уйти не удалось, и он успел ещё этому
порадоваться. В итоге у сестры есть несколько учебников по
криминалистике, написанных с его активным участием, а у меня
–
совместная с ним монография об эксперименте в уголовном
судопроизводстве. И это вовсе не было формальным
соавторством.
Думаю,
что кое-что, помимо явного внешнего сходства (о чем я
когда-то отдельно написал),
я от него унаследовал. Страсть к стихосложению, некоторые
ораторские способности, любовь к логике и диалектике, умение
аргументировать и формулировать
– это всё явно от него.
Работоспособность и нацеленность на результат (точнее, на
разные результаты)
–
тоже. А вот умение руководить
–
нет, это всё сестрице досталось: побыл я недолго и.о. зав.
кафедрой
– не моё это дело.
Отец
всегда очень живо интересовался нашей жизнью, любил
поговорить, давал интересные советы (которым я, конечно,
следовал много реже, чем мог бы). С ним было о чем
потолковать, он был очень остроумен, активен, креативен.
Оказываясь вместе с ним, скажем, на отдыхе, или на научной
конференции, я просто поражался, сколько народу радостно
узнавали его и стремились общаться.
Его
любили практически все. А он очень любил жизнь...
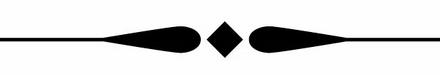
Светлая тебе память,
папа...