|
|
Дипломному году на Физтехе уделялось особое внимание, ничего иного,
кроме этой задачи, студенту в обязанность не вменялось.
Однако весь год, пока дипломник ваял свою работу (а на некоторых
факультетах – и проект), он периодически докладывал её ход перед
кафедрой (а с шефом общался ещё чаще). Находились, кстати, и раздолбаи,
приступавшие к диплому буквально за неделю до крайнего срока,
а до той поры наслаждавшиеся вольным житьём, и мне даже помнится
виденная мной докладная записка на имя декана,
что студент Имярек на базовой кафедре с сентября так и не появился, с
шефом не общался, к выполнению дипломной работы так и не приступил
(а на дворе был уже конец апреля). Студента, кстати, таки выперли; но ему,
похоже, это было уже глубоко фиолетово.
Однако перед уходом на диплом нас ждало ещё одно важное событие –
военные сборы.
Настолько важное, что пятый курс завершался раньше обычного, с мая нас
тренировали на кафедре, а потом вывозили в лагеря.

Вот так нас натаскивали на кафедре.
Командир 1-го отделения – правофланговый, в колонне за мной – мои
одногруппники Паша Ожогин, Вася Юрасов и Раф Аюпов
(фамилию пятого не помню, он был из другой группы).
Военной подготовке на Физтехе уделялось весьма серьёзное внимание; но
преподаватели чётко подразделялись на две категории:
одни преподавали нам серьёзные дисциплины (преимущественно относящиеся к
прикладной математике и механике,
в частности, теорию автоматического управления) и пользовались
безусловным уважением,
но с ними студент встречался уже на старших курсах; другая часть
преподавала нам всякую шагистику и общую тактику,
что нам с нашим ВУСом (не буду его называть, хоть это уже не секрет)
казалось, гм, не слишком нужным.
Неудивительно, что про них ходили обидные
анекдоты (позже я понял, что подобные
есть в любом техническом вузе).
Для
прохождения сборов вывезли нас всех в учебный центр, находившийся в
Псковской области, в месте под названием Остров-3.
Насколько он далёк от реального города Острова, выяснить не удалось (да
и ни к чему это).
И было там довольно много интересного и немало скучного.
Условия там были весьма сдержанные, кормили, скажем так, неважно.
Особой популярностью пользовалась дивная подливка неизвестного
происхождения, метко прозванная антидотом и примечательная тем,
что, ежели пролить её, например, на гимнастёрку и дать просохнуть – так
пятна не оставалось, только красноватая пудра, которую можно было просто
сдуть.
Вкуса она, конечно, вообще не имела, зато её (как и хлеба с кашей) было
вдосталь.
За какие-то заслуги я (командир первого отделения) был назначен
ответственным за построение взвода после еды.
Ел я всегда быстро и, доев, командовал: "Встать. выходи строиться!" –
что вызывало ропот среди уважаемых людей,
трапезовавших за тем же столом. Выход нашли довольно быстро: вспомнили
старую, ещё петровских времён, норму,
что рекрут выше шести футов (и двух, кажется дюймов) получает двойную
пайку. Оказалось, что и в советской армии нечто подобное
тоже имело место – мне стали выдавать двойную порцию мяса/рыбы и
масла/сыра, и всё успокоилось.
Но
было, конечно, и многое другое.
Был реальный марш-бросок в условиях дикой жары (на дворе конец июня), на
котором я реально спёкся –
получил тепловой удар и был эвакуирован; были стрельбы, шагистика,
портянки (о, это целая наука!),
много спецдисциплин, возможность реально взглянуть на настоящую ракету
(пусть и без БЧ);
а в конце был серьёзный госэкзамен, по итогам которого нас и ждал приказ
министра о присвоении нам звания лейтенант-инженер запаса.
И в
начале июля лейтенанты вернулись в Москву.
Должен сказать, что я наивно полагал, что на этом мои взаимоотношения с
военным ведомством успешно завершены, но ошибался
Настойчивое ведомство предприняло целый ряд попыток
призвать
лейтенанта-инженера Белкина А.Р.
на службу в Вооружённых силах СССР, но не преуспело.
Параллельно меня периодически пытались привлечь к военным сборам и
повысить в звании,
но в конце концов оставили в покое.
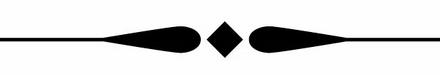
Расхожая студенческая мудрость гласит: сдал сопромат
– можно жениться.
Но на
Физтехе сопромата отродясь не водилось, так что его роль
призваны были исполнить пресловутые военные сборы.
Вернулся новоиспеченный офицерик-лейтенантик
– можешь жениться. Ежели,
конечно, есть на ком.
Ну, у
меня в этом смысле было всё в порядке.
С моей невестой Женечкой, Евгенией Вилленовной Исаевой мы
были знакомы уже более двух с половиной лет,
давно признались другу в любви и дату определили загодя. Она
была студентка-медичка, будущий детский хирург,
полутора годами моложе меня и замечательно красива.
Дочка наша в этом смысле вся в неё. И очень похожа (правда,
и на меня тоже).
Начиная эти записки, я поклялся себе
избегать мало-мальски интимных подробностей и во всяком
случае не писать
ничего плохого о женщинах, удостаивавших меня своим
вниманием.
Aut bene, aut nihil
!
И про мою Женечку я мог бы сказать очень
много хорошего. И
скажу, хоть она уже много лет не моя.
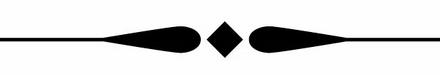
Последний, шестой курс на Физтехе был целиком дипломным.
Все предметы и дисциплины завершены, ездить в Долгопу уже
незачем.
Я, правда, вздумал еще и третий язык загрузить, честно ездил
раз в неделю, но не преуспел, о чём ранее уже писал.
У меня
в дипломной разработке были две практически не связанные
друг с другом задачи, и в обеих я продвинулся
довольно далеко, так что бросать ни одну из них не хотелось,
хотя и одной хватило бы вполне.
Первая
включала исследование систем, описываемых т.н.
функционально-взвешенными графами, и была, судя по всему,
довольно актуальна
для достаточно закрытой конторы, с которой у лаборатории
Г.С. Поспелова (и конкретно у моего руководителя И.Ф.
Шахнова) был хоздоговор.
К самой конторе Шахнов меня не подпускал (да я и не
стремился, ибо это потребовало бы особого допуска), моя функция была
чисто исследовательская.
Выделив несколько важных классов таких структур и не
вдаваясь в реальный смысл систем, описываемых такими
моделями,
я занимался исследованием закономерностей их поведения,
динамикой, асимптотикой и т.п., причём не только
аналитически, но и численно.
Соответственно, текста в первой части дипломной работы было
много, и прилагался увесистый том листингов
–
распечаток с машины БЭСМ-6, на которой я и производил
расчёты.
Вторая
задача мне была более интересна, я потихоньку к ней
подбирался уже несколько лет,
и заключалась она в поиске оптимального линейного
упорядочения объектов, на множестве которых задана структура
предпочтений.
Само понятие оптимального упорядочения неоднозначно
– определяя его по-разному, можно получить совершенно
разные линейки.
Наиболее интересно и логично т.н. слейтерово
(наиболее согласованное) упорядочение, но его построение в
общем случае
представляет собой трудную (NP-трудную)
задачу, решаемую методами дискретной оптимизации.
Мне удалось построить ряд довольно эффективных
комбинаторных алгоритмов
(основанных на методах динамического программирования,
направленного перебора и ветвей и границ), а также придумать
неплохой и быстрый приблизительный алгоритм,
строящий линейку, весьма мало отличающуюся от слейтеровой
(более того, часто с ней совпадающую).
Всё это я обосновал во второй части работы,
запрограммировал на АЛГОЛе (Фортран мне как-то не нравился),
отладил – в общем, так возник ещё один том листингов.
В итоге
получилось фактически два куска, оба большие, объёмные, но
написать предисловие, которое бы их объединило в единое
целое,
оказалось отдельной и очень непростой задачей. Ещё одной
проблемой оказалась подготовка плакатов – их набралось аж
22, и стало это, гм, недёшево.
Впрочем, к самой работе ни у Шахнова, ни у кафедры никаких
претензий не было.
Не было претензий и у Госкомиссии: говорил я бойко, на
вопросы отвечал уверенно, плакаты тоже понравились –
так что Г.С. Поспелов (председательствующий) благосклонно
покивал (ему-то практическая важность первой
моей задачи была ясна).
В общем, удостоили меня особой похвалы (cum
laude) и рекомендовали в аспирантуру.
Об этом – далее.
Продолжение |

